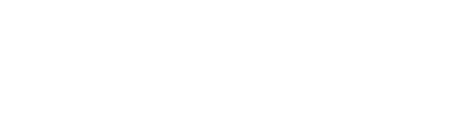Обаяние синкретизма
о Рерихе и не только
Наталья Ростова
В Третьяковской галерее открыт масштабный выставочный проект, приуроченный к 150-летию со дня рождения художника, мыслителя, археолога, путешественника Николая Константиновича Рериха.
Диапазон восприятия личности Рериха простирается от мистики до области политической конспирологии. В нём видят пророка, визионера, учителя, философа, завербованного шпиона, масона, ловкача, эксплуатировавшего жажду к чудесному, которой не чужды и состоятельные люди. Для одних он, как для Леонида Андреева, тот, кто среди видимого открывает невидимое, или, как для Алексея Ремизова, воскресший пращур, рассказывающий о тайнах Древней Руси, для других — общественный деятель, проповедник идеи «Мир через Культуру», автор Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха), заложившего основу Гаагской конвенции и других международных документов, защищающих культурное наследие. Для третьих — известный ученик А. Куинджи и Ф. Кормона, создатель более семи тысяч полотен. Для четвёртых — агент влияния и автор символики долларовой купюры. Но любой творец — это его творчество, говорящее само за себя. Произведения Рериха — это сообщения, в которых визуальное и вербальное сопряжены редкой для художника слаженностью. Образ у Рериха рассказывает, текст показывает, они взаимообратимы. О чём же его послания? Понять это — значит не просто выстроить отношение к видному деятелю прошлого века, но выявить ахиллесову пяту современной культуры. Николай Рерих не только одиозная личность своего времени, но тот, в ком выразился дух угасающего западного мира, не чуждый и нам.
Духовное вычитание
Суть творчества Рериха состоит в стремлении утвердить тотальную, примордиальную, первичную истину мира, упраздняющую все различия: человека и космоса, природы и Бога, науки и религии, культур, наций и цивилизаций. Максима Рериха гласит: «Лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают». «Каждое, — говорит он, — учение истины, каждое Учение о высоких принципах жизни исходит из одного и того же источника», — а «кажущиеся противоречия» при сравнении культур оказываются не чем иным, как «совершенно одинаковыми ступенями различных степеней человеческого сознания».
Рерих — апологет внекультурного, синтезирующего мышления. Культура для него не причина самой себя, но осколок предваряющего её (таинственного) целого и как осколок представляет собой частное, ограниченное проявление этого целого. Бенуа этот синтезирующий подход в творчестве Рериха назовёт путём к общечеловеческому. В 1916 году он будет приветствовать преодоление Рерихом «куинджизма», иллюстративности и древнеславянской темы, его переход от «Васнецова Каменного века» к «настоящему Рериху», от «квасного патриотизма» — к очищению, от национальной узости — к «широкой человечности». Но синтезирующее, растворяющее в своих объятиях мышление Рериха — более, чем стремление к общечеловеческому. Это стремление к общекосмическим, то есть подрывающим идею человеческой исключительности, ценностям. Качественных различий, согласно такой логике, нет, есть лишь эволюция сознания, являющаяся частью вселенской эволюции. Говоря устами «являющегося» к нему таинственного учителя: «Направьте мысль на общность идей религий всего мира», — Рерих пишет визуально синонимичную серию полотен под названием «Знамёна Востока» (1924–1925 гг.), суть которой концентрируется в двух образах: «Матерь мира» (см.илл) и «Змий мудрости». Последний представляет собой золотое огненное полотно, изображающее первобытный бурлящий хаос. Художник условно поделил его диагональю на две части: верхняя левая задана огнедышащим драконом, правая нижняя — композицией с девами. Искусствоведы видят в этом делении противопоставление двух начал: добра и зла, выискивая синие тона на картине и усматривая в них антагонизм с жёлтым вихрем (что, однако, кажется преувеличением, поскольку синие тени художественно объясняются законом сочетания цветов и не представляют серьёзной доминанты в изображении). Но можно предложить и другое понимание. Очевидно, что дракон олицетворяет восточную культуру, а девы, несмотря на индуистский флёр, который придал им автор, буквально списаны с памятника античной культуры «Трон Людовизи», изображающего рождение Афродиты из пены морской. Начал, тем самым говорит нам Рерих, не два, а одно: Восток не противостоит Западу; природоцентризм, выраженный в символе дракона, не противостоит антропоцентризму, выраженному в прекрасном теле; космический культ не противоречит культу человека. Всё суть едино, убеждает нас художник, и рождено из одного источника.
Картина «Матерь мира» — это апофеоз проповеди Рериха, живописная транскрипция видения его жены. 18 июля 1924 года, признаётся Елена, её сон перешёл в откровение, явившее ей образ «женской фигуры в сверкающих белых одеждах» с покрытой головой и лицом так, что виден был лишь её подбородок «слегка телесного тона». Серебро её одежд вдруг рассыпалось на искры, а потом собралось в гармонию звезды-додекаэдра, двенадцатигранника. На фоне виднелись «чалма, митра, иконописный лик старца с белой бородой», но женщина казалась «более реальной, нежели старец». Идея первоначального единства, таинственного рассредоточения и, наконец, совершенного обратного единения, пронизывающая рассказ Елены Рерих, будет прямо передана в картине. Старцу, чалме и митре не найдётся в ней места, что лишь утверждает их, по всей видимости, существующих религий, вторичную роль. Их реальность меркнет в сравнении с предложенной реальностью абстрактной праматери. На эскизе к картине идея рассыпавшихся искр-традиций представлена в виде тринадцати антропоморфных звёзд-божков, окружающих «матерь». «Заповеданная всеми иероглифами сердца любовь — Матерь Мира», — объясняет сам Рерих, — «создала племя Святых людей, не знающих ни земли, ни народности; поспешающих на крыльях духа на помощь, на сострадание, сотрудничество; спешащих во Благо; несущих капли Всепонимания, Всеединой Благодати». В оригинале картины звёзды утрачивают антропоморфность и выглядят подобно обычным небесным светильникам.
Что мы можем сказать о «матери»? Положительно ничего. Художник, отсылая к идее совершенства, задействовал символы сферы и квадратов, окружив первыми фигуру и начертав вторые на её одеянии, изобразил водную гладь с рыбами, объяснив своим ученикам, что рыбы — символ молчания. Хотя в эскизе к картине мы видим также изображение хризмы — монограммы имени Христа, которая размещена в основании трона «матери», но в оригинале от христианских коннотаций остаются только рыбы. Женская фигура восседает на возвышении и делает то ли преграждающий, то ли благословляющий жест правой рукой. Он напоминает ладонь праведника в православной иконописи. Однако в рассказе о видении мы встречаемся с иным пониманием жеста, отстраняющим: «Женщина эта, — говорит Елена Рерих, — подняла руку телесную, украшенную серебряными обручами, и как бы отстраняясь от чего-то внизу, на земле, повернулась к Старцу». Появление и исчезновение элементов, их противоречивое назначение, — все эти рабочие моменты не могут нас смущать в картинах Николая Рериха, ибо идея его однозначна — всеединство. Откуда же берутся противоречия? Они не могут не возникнуть, ибо любая традиция антиглобалистична в своей сути, то есть её условием является признание её абсолютности. Невозможно соединить миссию Христа в христианстве с идеей о том, что «матерь мира» является «духовной матерью Христа и Будды», как выражается Елена. Невозможно скрестить Мухаммеда и Лао-цзы и не лишить и того, и другого их сути. Как говорил Н. Данилевский, нет животного вообще, но есть конкретное животное, а то общее, что объединяет его с другими, получается путём вычитания его характерных жизненных черт. Категория всеобщего — это результат разницы, а не сложения, обеднения, а не обогащения. Это призрачная абстракция, не имеющая отношения к конкретике и богатству жизни. Рерих настойчиво повторяет идею этого духовного вычитания, где могучие традиции превращаются в намёки призрачных смыслов. Пречистая Богоматерь, яростная Кали и чувственная Иштар не просто ставятся Рерихом в один ряд, но умерщвляются в их редукции к «знакам единения». Живые символы низводятся до условностей. Живые пути для внутренней жизни опустошаются в императивах некоей любви и единения. Живые традиции сопротивляются, и неудивительно, что Рериху приходится превратить Христа в своём цикле картин в безликого пустынника, который вместе с таким же спутником занимается какими-то магическими операциями по начертанию иероглифов на песке. Конечно, у картины существуют комментарии от Елены Рерих, из которых мы узнаём об идее труда, который только и способен включить нас в дело космической эволюции, но на полотне под названием «Знаки Христа» мы видим не Его, не Сына Божьего, не Спасителя, а заклинателя-бродягу. Аналогичны и другие серии картин Николая Рериха: в цикле «Майтрейя» (1925) буддийский Майтрея, будда будущего, превращается в «не знающий ни земли, ни народности» знак новой эры, сулящей общее благо, знак «всепонимания, всевмещения». Аргумент Рериха прост: традиции разделяют, Майтрея объединит всех, буквально совместит и принесёт чаемый всеми мир. То есть он эквивалентен Антихристу в христианстве: истина с ним не восторжествует, но, напротив, исчезнет, растворившись во множестве частных «истин».
Зияние культуры
Толпам поклонников Рериха противостоит холод искушённых душ. Бенуа, дружный с Рерихом, сетует на то, что мессианизм в нём победил художника, общественник — созерцателя, дух гордыни — чистые побуждения. Нет у него, говорит Бенуа, ни одной самодовлеющей картины, подобной той, что пишут Рафаэль или Рембрандт. Перед нами не искусство, само за себя говорящее, исчерпывающее, а подобие озарений, требующих бормотаний-пояснений на языке священных книг. Рерих пишет красиво, поэтично, но всё это суть «импровизация», а «не вечные и великие создания человеческого духа». Маковский упрекал Рериха в излишней погоне за внешним эффектом. Он называл его «виртуозом-фантастом самоцветных гармоний», который ослепляет, но не убеждает, а живопись его сравнивал с парчой, переливающейся своим непрерывным блеском, но не имеющей внутреннего плана.
И всё же феномен Рериха не позволяет делать подобных суждений наотмашь. Его популярность заставляет задаться вопросом о своих причинах: не есть ли именно живопись Рериха — входной билет в души масс? Если бы Сартр не написал свои художественные произведения, не предстал бы как писатель и драматург, то он не был бы тем Сартром, каким является сегодня, той краеугольной для европейской культуры фигурой XX века, без которой она уже немыслима. Философия, как известно, для меньшинства. Агни Йога так и осталась бы уделом любителей теософии, если бы Рерих не нашёл прямой, быстрый и непосредственный путь к сознанию обывателей. Картины Рериха ослепляют своей психоделической эстетикой, они завораживают, ошарашивают, парализуют, буквально на физическом уровне останавливают на себе взгляд, намекая на некие потусторонние смыслы, они тем не менее доступны для восприятия любого. Несложные образы ласкают взгляд, будоражат близкие эмоции, не требуя специальных знаний и образования. Аналогичен в этом смысле успех картин Рокуэлла Кента у советских граждан. С ними заговорили о чём-то для них важном и приятном просто и незатейливо. Не столько сюжетами о «трудах и днях», сколько красками затронули эмоции, дали им выход. И зритель охотно откликнулся, ибо рассудок, как говорил Достоевский, вещь хорошая, но удовлетворяет только рассудочной способности человека, а не всей человеческой жизни. Мы всегда ищем пространств расширений, в которых бы вместилась наша субъективность, искусство его нам предоставляет в самых разных качествах самим антропологическим началом в себе. Рерих даёт быстрые эмоции. Он насыщает торопливых в своей внутренней жизни людей, привлекает криком, а не молчанием, зазывает, цепляет одинокого в своём одиночестве человека. Возбуждает обещаниями, опьяняет авансами человечности. Мистические символы в его живописи играют с нашим самолюбием, намекая на бездонный ресурс внутренней жизни и убеждая в несложной причастности. Пути Нестерова, которому он изначально был близок, Рерих предпочёл путь дизайнера восприятия.
Феномен Рериха невозможно рассматривать в отрыве от теософии и антропософии, от чар новой мистики, захватившей на рубеже XIX–XX веков западное человечество и Россию. Не взирая на откровенные фокусы, сопровождавшие теософское движение, а также их разоблачение — стоит только прочитать воспоминания Всеволода Соловьёва, брата Владимира Соловьёва, о зарождении движения Е. Блаватской в Европе, — доктрина не утратила своей привлекательности. В трактате Соловьёва примечательны не те скандалы, свидетелем которых он был, а его собственный неодолимый интерес к кружку спиритов, делавший его мало отличимым от стареющих женщин, которые составляли костяк клуба. Одновременно в философии зарождается так называемая философия сакрального, возникает эзотерическое учение традиционалистов вроде Р. Генона, появляются европейцы-трансляторы восточного оккультизма наподобие А. Давид-Неэль. Интеллектуальные поиски в России приводят к идее Третьего Завета. Н. Бердяев, критикуя теософию, тут же признаётся ей в любви как к учению, способному привести к софийности ума, стоит ему только перестать трактовать гнозис слишком поверхностно и популярно.
Зеркалом сознания советского образованного человека станет играющий на мистических струнах души роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Оккультизм захлебнёт Россию после перестройки — маги, гадалки, экстрасенсы, шквал литературы захватит сознание обывателя. На повестке дня западной философии сегодня призраки, НЛО, феномены непостижимого. Все эти пересекающиеся линии, приводящие нас, в конце концов, к современности, где мы видим неутихающий интерес к эзотерике, что можно расценивать как кризис рациональности и светского гуманизма. И это будет верно. Реабилитация аффективной стороны человека в науке, философии, культуре XX века стала ответом на ограниченность понимания человека как существа, чья суть заключена в разуме и теле. Но это недостаточное объяснение. Кризис рациональности здесь сочетается с кризисом христианства. Современный человек не просто сбрасывает оковы рационализма — он не приемлет любую модель самопонимания, предполагающую авторитет. В нём исполнился идеал человека-протеста, заповеданный Лебезятниковым. «Я, — говорил Лебезятников, — сожалею, что мать и отец умерли, а то бы я их как протестом огрел, как удивил». Мы все сегодня — сладкий сон героя Достоевского, ставший реальностью. Мы все сегодня готовы дать отпор тому, что посягает на наше личное пространство. Новая мистика в искусстве и философии соблазнительна тем, что не требует от человека жертв. Её алтарь вечно пуст. Предлагая эмоциональную раскачку, резонирующую с потребностью человека жить человеческой жизнью, она оберегает и утверждает человеческое «я». «Учитель» Рериха, «надиктовывающий» через него нам тексты, как, к примеру, Воланд М. Булгакова, это не авторитет, не Отец, не непреложная, трансцендентная истина. Это силы близкие, манящие, с которыми человек готов или не готов собеседоваться. Это маленькая игра аффектов человека. «Космос» Рериха — это камерный космос человеческой субъективности, из которого ему некуда выпрыгнуть. Он не объединяет, а разъединяет. Почему христианство, равно как и другие традиционные религии, настойчиво нивелируются новой мистикой в идее их причастности некоей сверхтрадиции или сверхучению? Потому что традиции формируют соборное сознание, предоставляя человеку выход из его ограниченного состояния. Страсть к мистике по ту сторону традиции оберегает чувство избранничества и безответственности человека, отсутствия необходимости держать ответ перед тем, что тебя превышает. Это называется магнетическим словом — «свобода». Почему идея этой «свободы» оказывается слабым местом современной культуры? Потому что она указывает на дыру в ней, роковое зияние в отсутствие оснований. Без основания культура не может жить и развиваться. Её суть состоит в надиндивидуальном, им она себя исполняет и удерживает. Почему сегодня нет художников, поэтов или музыкантов? Почему вместо культуры мы видим различные формы субкультуры? Не потому что нет талантливых людей — они, как и прежде, есть. Дело не в «повреждении» человеческой природы — человек продолжает рождаться человеком. Но отныне под лозунгом «свободы» ему предложено жить в ограниченном режиме, частном, телесном. Творчество же и культура всегда соборны, ибо плодоносят лишь тогда, когда человек живёт в состоянии самопревышения.